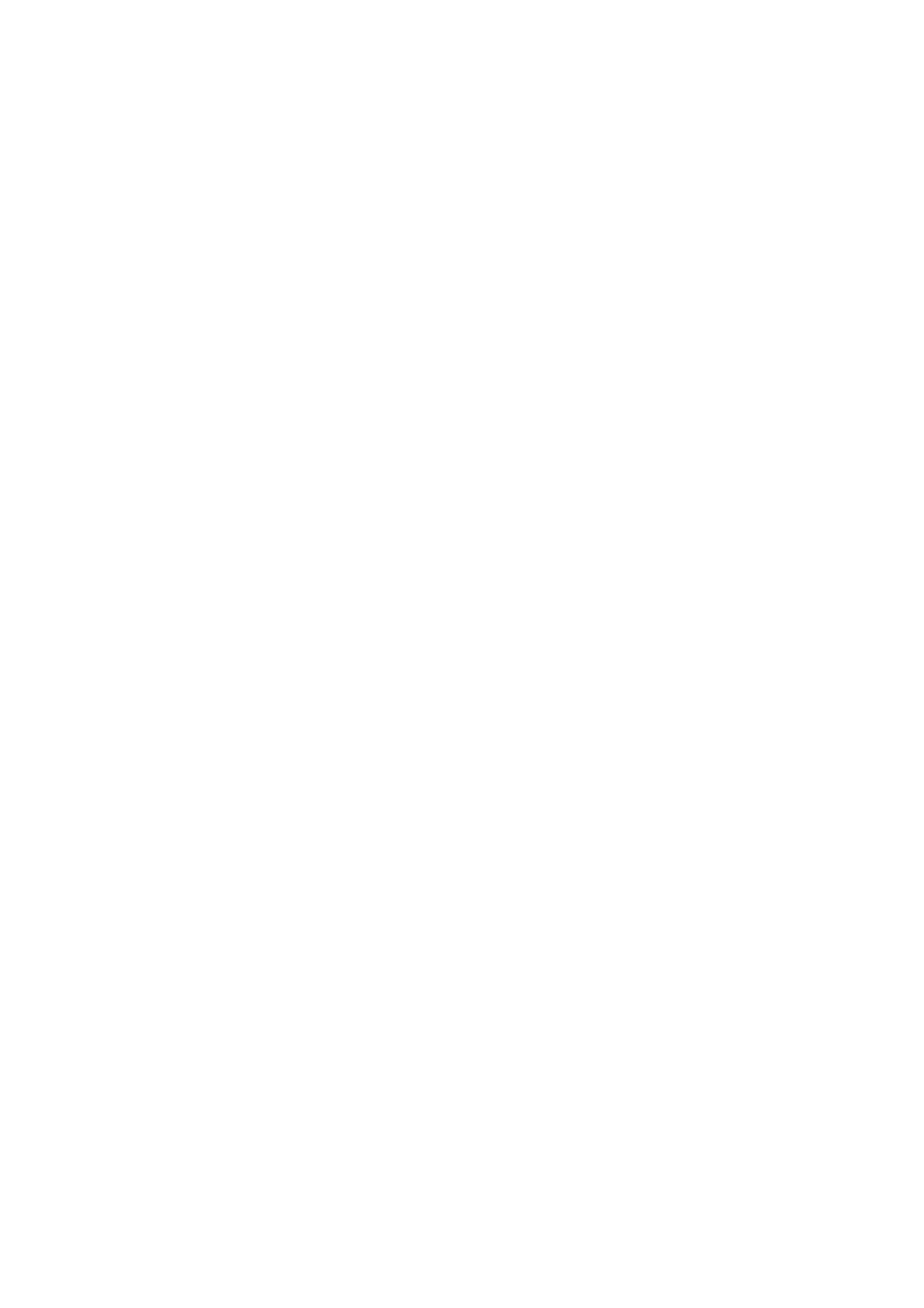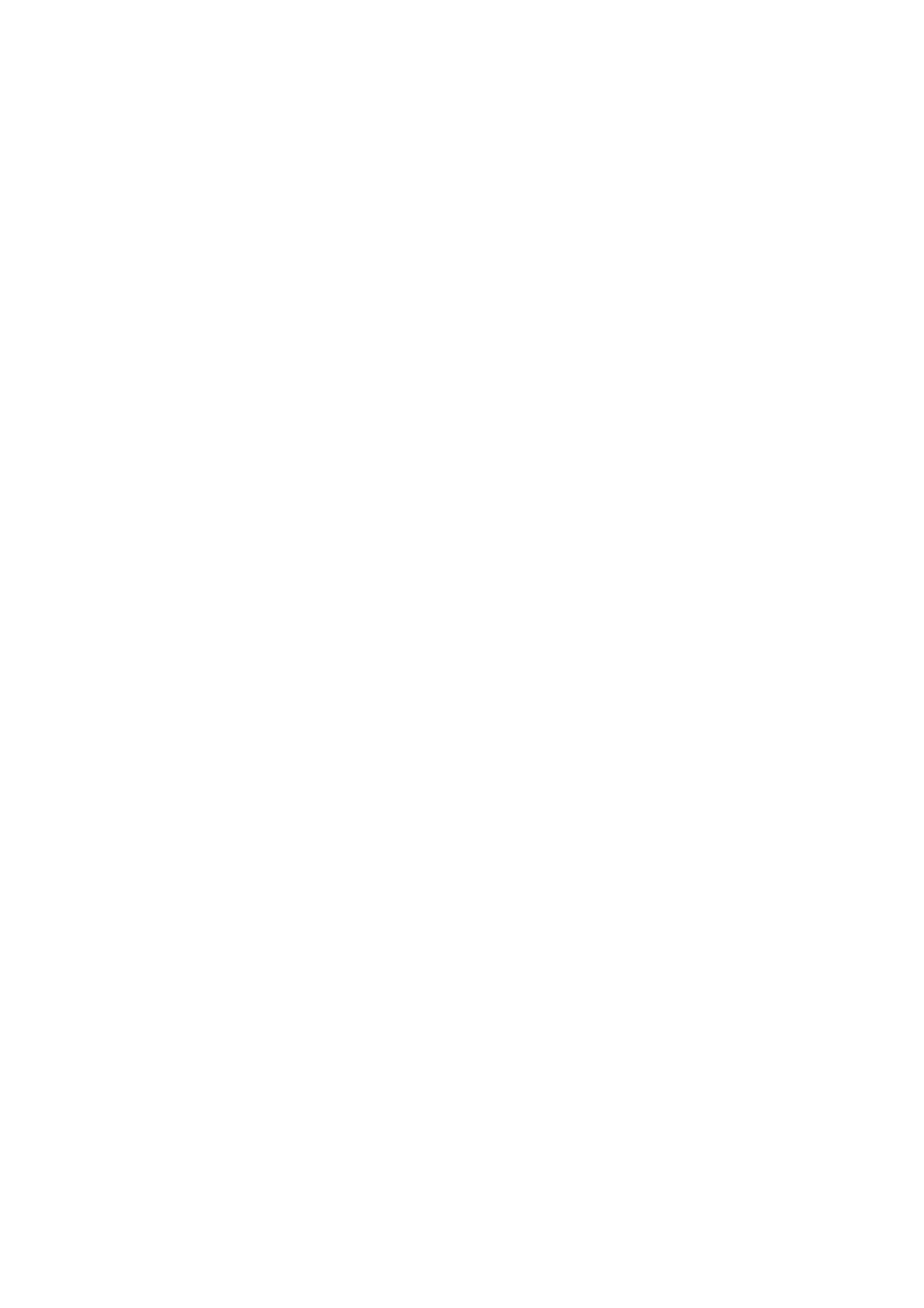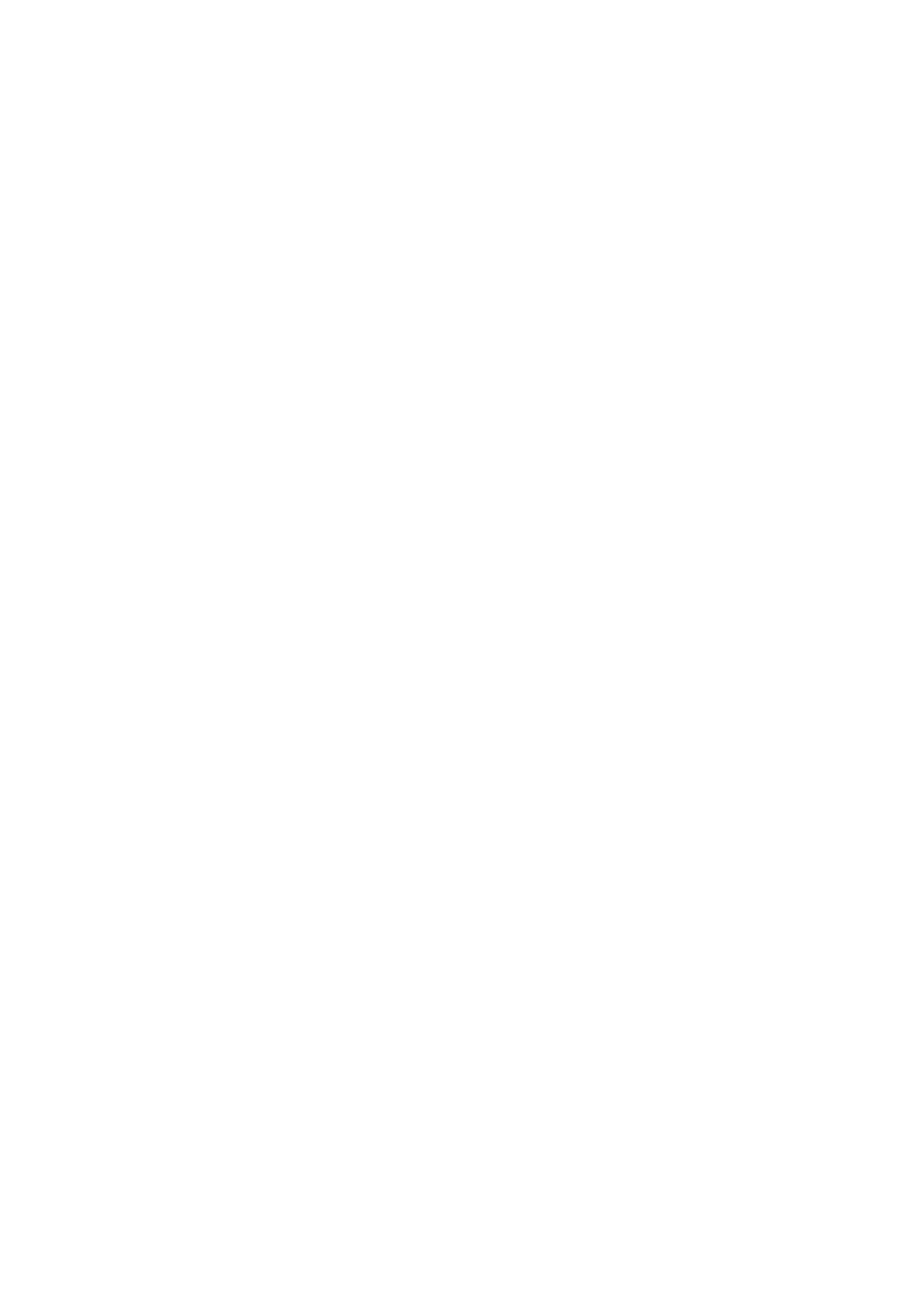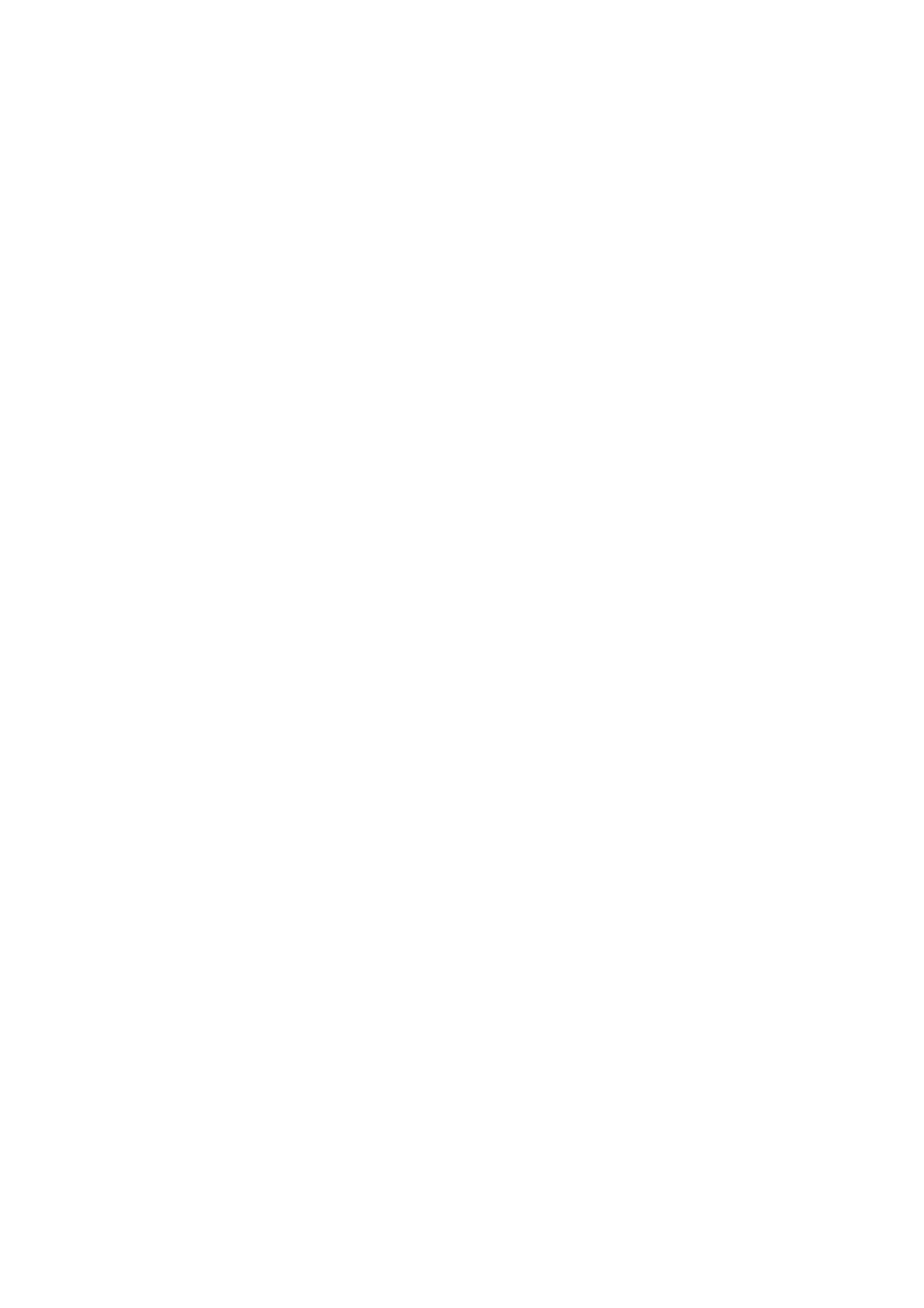История храма преподобного Сергия Радонежского и храма в честь Собора Московских святых в Бибиреве
История возникновения села Бибирево.
Благословение святой княгини Евфросинии Московской
Благословение святой княгини Евфросинии Московской
Начало истории храма прп. Сергия Радонежского и самого села Бибирево связано с Московским Вознесенским женским монастырем, основанным святой Великой Княгиней Евдокией, в иночестве Евфросинией, супругой св. блгв. Князя Димитрия Донского. В 1387 г., еще молодой Князь скончался. Благочестивая Княгиня Евдокия основала в Кремле в своих Княжеских покоях Вознесенский девичий монастырь. По малолетству своих сыновей вынужденная вместе с боярами управлять государством, внешне живя в богатстве и славе, Княгиня тайно проводила подвижническую жизнь в посте и молитвах. Получив извещение о приближении смерти, святая приняла в основанной ею обители монашеский постриг с именем Евфросинии. Еще по пути в обитель святость Княгини была засвидетельствована чудом благодатного исцеления слепца. По завещанию преподобной, она была похоронена в основанной ею каменной церкви, и Кремлевский Вознесенский монастырь с тех пор получил статус усыпальницы Великих Княгинь и Цариц. Вознесенский монастырь был одним из самых крупных и богатых в России. Среди инокинь, подвизавшихся в обители, было много представительниц знатных боярских родов: Колычевых, Сабуровых, Пушкиных и других. В его владении, кроме основной территории в Кремле, были многочисленные вотчины в разных российских городах. Среди них была и пустошь Кожина (Селецкой десятины), пожалованная монастырю Царской грамотой в 1585 году. Эта пустошь находилась в десяти верстах от Бутырской заставы на правом берегу речки Ольшанки (или Алешинки). Здесь в том же 1585 г. и возникает село Бибирево (таково было первоначальное звучание и написание названия села), «а в селе,-согласно писцовой книге, -церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы деревянная», при ней дворы священника и церковнослужителей.
Шло Смутное время. Польско-Шведская интервенция привела к разорению многих сел и деревень, которые превратились в пустоши. В начале ХVII в. Бибирево было уничтожено вместе с храмом. По писцовой книге за 1623 г. оно снова числится пустошью. Однако уже через семь лет жизнь в селе возобновилась, оно наполнилось жителями. На прежнем месте заново была построена Благовещенская церковь: в 1630 г. с нее уже взимаются подати. В 1638 г. сестры Вознесенского монастыря во главе с игуменьей Анастасией (Сабуровой) получили грамоту Царя Михаила Феодоровича, подтверждающую права на владение вотчинами, в том числе и в Бибиреве.
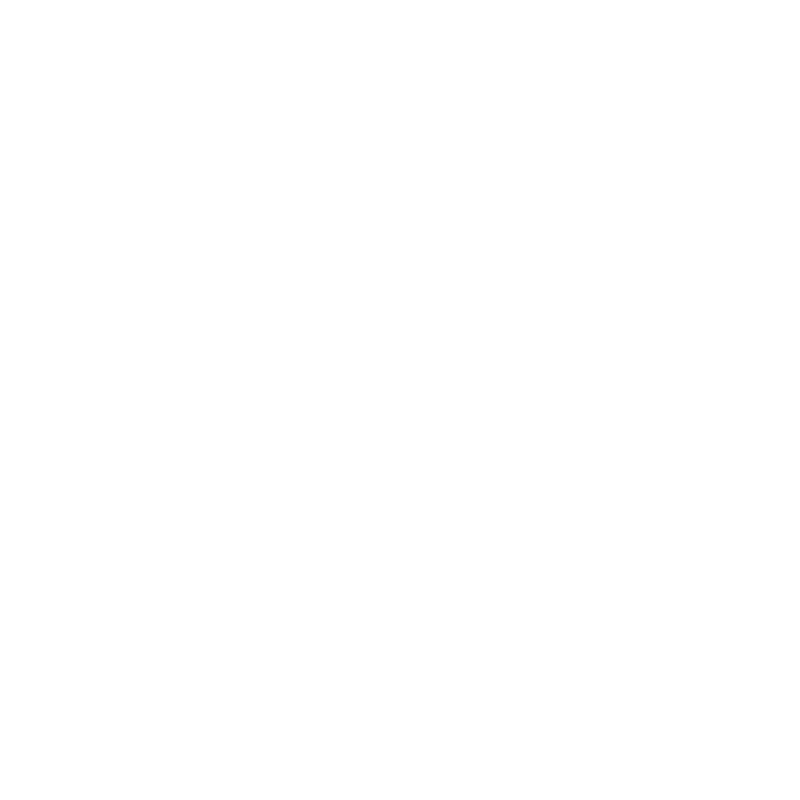
Село росло очень медленно: в 1646 г. в нем числилось пять крестьянских дворов и «двенадцать душ» крестьян и столько же жило в монастырском дворе; через тридцать лет крестьянских дворов было семь, количество жителей приближалось к пятидесяти. На протяжении всей своей истории село так и осталось бедным и сравнительно малолюдным.
Строительство Благовещенского храма
К началу ХVIII в. в Бибиреве насчитывалось двадцать дворов, включая монастырский и скотный. Причт состоял из священника и дьячка, которые получали содержание от монастыря. Деревянная церковь с течением времени ветшала. В это время игуменьей Вознесенского монастыря была мать Евстолия (Лодыгина), известная многими трудами по обустройству существующих и строительству новых храмов как в самом монастыре, так и в его вотчинах. Именно она и предоставила средства на строительство нового храма в Бибиреве. В 1732 г. вместо ветхого храма вчерне был построен новый деревянный с такой же колокольней.
Диакон Феодор Соколов в статье «История Благовещенского храма в с. Бибирево и построение нового во имя прп.Сергия Радонежского», указывает датой окончания Благовещенского храма 1738 г., однако архивные документы об освящении храма ясно указывают на другой год. В августе 1755 г. игуменья Вознесенского монастыря Елена (Ржевская) с сестрами обратилась в Московскую духовную консисторию с прошением об освящении построенной в вотчине их монастыря селе Бибиреве новой деревянной церкви, что и было совершено в ближайшие месяцы. Иконы в новый храм перенесли из прежнего, некоторые иконы подарили сестры Вознесенской обители.
Однако, менее чем через десять лет, в 1764 г., в результате секуляризации монастырских земель, село Бибирево и деревня Слободка перешли в ведение Коллегии экономии, составляя с этого времени приход. Церковь, созданная на средства Вознесенской обители, а так же часть земель были отобраны у обители государством. Однако сестры Вознесенского монастыря продолжали покровительствовать своей бывшей вотчине, жертвуя деньги на содержание и ремонт храма. Связь бибиревских храмов и Кремлевской обители продолжалась, несмотря на то, что формально они были никак не связаны.
После войны с Наполеоном жители Биберева на некоторое время вообще лишились церковной службы и были вынуждены обращаться за совершением треб в другие приходы. В декабре 1813 г. семидесятичетырехлетний священник отец Ефим Фомин был уволен по своему прошению в связи со старостью и слепотой. На его место никто не был определен. В 1814 г. дьячок Алексей Михайлов был переведен священноначалием в другой храм. Благовещенский храм остался без причта.
Обеспокоенные сложившейся ситуацией, прихожане обратились в консисторию с прошением о назначении им священника. В связи с этим прошением было произведено расследование, ознакомившись с которым, Духовная консистория в определении священника отказала, сославшись на «малое количество прихода и отмежеванной земли». Архиепископ Дмитровский Августин предписал приписать приход села Биберево к селу Алтуфьеву.
В ноябре 1815 г. благочинный московской округи села Мытищ Димитрий Федоров сообщил в консисторию, что из Благовещенской церкви с. Бибирева украдены деньги, осталось всего 214 фунтов и некоторое церковное имущество, которое «по неимению причта хранить в той церкви было некому».
В 1816 и 1818 гг. прихожане, крайне скорбевшие о лишении церковной службы и желавшие все свои начинания освящать молитвой и благословением священника, вновь обращались с прошениями в Консисторию. В последнем прошении говорилось, что число дворов в приходе теперь достаточно и, кроме того, прихожане обещали «вноситьпо триста рублей, а также и данную предками нашими пахотную землю, сенные и лесные дачи (т.е. участки), которых имеется весьма достаточное количество, чтобы утвердить в полном священно- и церковнослужителей владении и помогать им в обрабатывании оной. Да сверх того на могущие встретиться церковные надобности полагаем особенную дачу лугового сенного покоса».
Эти обещания показались Консистории вполне убедительными. В резолюции архиепископа Августина от 2 марта 1818 г. было дано разрешение назначить к Благовещенской церкви священника, и село Бибирево вновь составило ее приход. В ведомости за 1819 г. сообщается, что при церкви «приходских 43 двора, в них душ мужских 101, женских 124. Причт — священник отец Феодор Васильев, 55 лет, дьячок Николай Симеонов, 46 лет».
В Благовещенском храме хранились древние иконы, написанные по заказу инокинь Вознесенского монастыря. Во втором ярусе иконостаса располагались древние образа(возможно, XV века) Знамения Божией Матери и пророков. Позади левого клироса располагалась особо чтимая икона прп.Макария Желтоводского в житии, чудесно обретенная в начале XVII в. в колодце, в двух верстах от с. Бибирева близ межевой ямы, на границе трех селений: Алтуфьево, Бибирево и Медведково. Ныне эта икона — одна из святынь храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. В память этого события ежегодно в шестую неделю (о слепом) по Пасхе совершался крестный ход на кладязь с молебным пением и освящением воды в колодце. Особенно чтились также иконы Божией Матери Казанская и «Утоли мои печали», написанные в 1766 г. инокинями Вознесенского монастыря.
В 1859 храм был капитально отремонтирован по благословению свт. Филарета, при настоятеле о. Павле Троицком, подведен каменный фундамент.
В 1880-е гг. храм поновлен внутри и снаружи. Иг. Серафима пожертвовала облачения. Настоятель о. Сергий Соколов промыл живопись, иконостас, сделал новый кивот и т.д.
К началу ХVIII в. в Бибиреве насчитывалось двадцать дворов, включая монастырский и скотный. Причт состоял из священника и дьячка, которые получали содержание от монастыря. Деревянная церковь с течением времени ветшала. В это время игуменьей Вознесенского монастыря была мать Евстолия (Лодыгина), известная многими трудами по обустройству существующих и строительству новых храмов как в самом монастыре, так и в его вотчинах. Именно она и предоставила средства на строительство нового храма в Бибиреве. В 1732 г. вместо ветхого храма вчерне был построен новый деревянный с такой же колокольней.
Диакон Феодор Соколов в статье «История Благовещенского храма в с. Бибирево и построение нового во имя прп.Сергия Радонежского», указывает датой окончания Благовещенского храма 1738 г., однако архивные документы об освящении храма ясно указывают на другой год. В августе 1755 г. игуменья Вознесенского монастыря Елена (Ржевская) с сестрами обратилась в Московскую духовную консисторию с прошением об освящении построенной в вотчине их монастыря селе Бибиреве новой деревянной церкви, что и было совершено в ближайшие месяцы. Иконы в новый храм перенесли из прежнего, некоторые иконы подарили сестры Вознесенской обители.
Однако, менее чем через десять лет, в 1764 г., в результате секуляризации монастырских земель, село Бибирево и деревня Слободка перешли в ведение Коллегии экономии, составляя с этого времени приход. Церковь, созданная на средства Вознесенской обители, а так же часть земель были отобраны у обители государством. Однако сестры Вознесенского монастыря продолжали покровительствовать своей бывшей вотчине, жертвуя деньги на содержание и ремонт храма. Связь бибиревских храмов и Кремлевской обители продолжалась, несмотря на то, что формально они были никак не связаны.
После войны с Наполеоном жители Биберева на некоторое время вообще лишились церковной службы и были вынуждены обращаться за совершением треб в другие приходы. В декабре 1813 г. семидесятичетырехлетний священник отец Ефим Фомин был уволен по своему прошению в связи со старостью и слепотой. На его место никто не был определен. В 1814 г. дьячок Алексей Михайлов был переведен священноначалием в другой храм. Благовещенский храм остался без причта.
Обеспокоенные сложившейся ситуацией, прихожане обратились в консисторию с прошением о назначении им священника. В связи с этим прошением было произведено расследование, ознакомившись с которым, Духовная консистория в определении священника отказала, сославшись на «малое количество прихода и отмежеванной земли». Архиепископ Дмитровский Августин предписал приписать приход села Биберево к селу Алтуфьеву.
В ноябре 1815 г. благочинный московской округи села Мытищ Димитрий Федоров сообщил в консисторию, что из Благовещенской церкви с. Бибирева украдены деньги, осталось всего 214 фунтов и некоторое церковное имущество, которое «по неимению причта хранить в той церкви было некому».
В 1816 и 1818 гг. прихожане, крайне скорбевшие о лишении церковной службы и желавшие все свои начинания освящать молитвой и благословением священника, вновь обращались с прошениями в Консисторию. В последнем прошении говорилось, что число дворов в приходе теперь достаточно и, кроме того, прихожане обещали «вноситьпо триста рублей, а также и данную предками нашими пахотную землю, сенные и лесные дачи (т.е. участки), которых имеется весьма достаточное количество, чтобы утвердить в полном священно- и церковнослужителей владении и помогать им в обрабатывании оной. Да сверх того на могущие встретиться церковные надобности полагаем особенную дачу лугового сенного покоса».
Эти обещания показались Консистории вполне убедительными. В резолюции архиепископа Августина от 2 марта 1818 г. было дано разрешение назначить к Благовещенской церкви священника, и село Бибирево вновь составило ее приход. В ведомости за 1819 г. сообщается, что при церкви «приходских 43 двора, в них душ мужских 101, женских 124. Причт — священник отец Феодор Васильев, 55 лет, дьячок Николай Симеонов, 46 лет».
В Благовещенском храме хранились древние иконы, написанные по заказу инокинь Вознесенского монастыря. Во втором ярусе иконостаса располагались древние образа(возможно, XV века) Знамения Божией Матери и пророков. Позади левого клироса располагалась особо чтимая икона прп.Макария Желтоводского в житии, чудесно обретенная в начале XVII в. в колодце, в двух верстах от с. Бибирева близ межевой ямы, на границе трех селений: Алтуфьево, Бибирево и Медведково. Ныне эта икона — одна из святынь храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. В память этого события ежегодно в шестую неделю (о слепом) по Пасхе совершался крестный ход на кладязь с молебным пением и освящением воды в колодце. Особенно чтились также иконы Божией Матери Казанская и «Утоли мои печали», написанные в 1766 г. инокинями Вознесенского монастыря.
В 1859 храм был капитально отремонтирован по благословению свт. Филарета, при настоятеле о. Павле Троицком, подведен каменный фундамент.
В 1880-е гг. храм поновлен внутри и снаружи. Иг. Серафима пожертвовала облачения. Настоятель о. Сергий Соколов промыл живопись, иконостас, сделал новый кивот и т.д.
Новый небесный покровитель.
Возведение храма прп. Сергия Радонежского
Построение в с. Бибирево нового храма в честь прп. Сергия Радонежского было связано с величайшим явлением милости Божией по молитвам сего святого угодника. «В 1873 г. в июле месяце в местном приходе и прилегающих к нему селениях была повальная холера, в селе умирало ежедневно от трех до пяти человек. В это время в селе Дегутине того же уезда носили икону преподобного Сергия, написанную на гробовой доске (т.е. доске от гроба преподобного Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). Настоятель храма и крестьяне села Бибирево попросили сопровождающих ее монахов прийти в их село.
13 июля икона была принесена в село и, как вспоминают очевидцы, совершилось нечто необыкновенное: несшие икону едва успевали идти, она неслась как бы по воздуху. Когда служили посреди села молебен, больные в предсмертных судорогах выходили и выползали из своих домов. С этого дня прекратилась эпидемия в селе и более не возобновлялась, и никто не умер после молебствия, даже из тяжелобольных.
Прихожане постановили ежегодно 13 июля служить молебен преподобному Сергию с водоосвящением и крестным ходом вокруг села, а в память об этом чудесном событии ими же приобретена икона преподобного Сергия». Тогда же возникла мысль о построении придела в честь сего святого угодника Божия.
Когда через двадцать лет деревянная Благовещенская церковь крайне обветшала, было решено построить в Бибирево новый каменный храм во имя прп.Сергия Радонежского. В это время священником в Бибирево был о.Сергий Соколов, деятельный пастырь-подвижник.
Новый храм был возведен при настоятеле о. Сергии Соколове.
Сергей Иванович Соколов родился в 1853 г. в семье дьячка Георгиевской церкви на Лубянке. Был отдан в Московскую духовную семинарию, где получил серьезное образование: кроме Священного Писания и других духовных предметов, там изучали логику, историю русской литературы, словесность, историю гражданскую всеобщую и Российскую, тригонометрию, геометрию, алгебру, латинский и греческий языки. Даже по меркам нашего времени Сергей Иванович был всесторонне образованным человеком. В мае 1878 г., с честью выдержав экзаменационные испытания, он был, по собственному прошению, уволен из третьего класса семинарии и определен преподавателем в народное училище села Поречье Можайского уезда. В 1884 г. епископом Дмитровским Амвросием был рукоположен во священники и определен в село Бибирево.
О. Сергий открыл в собственном доме начальное народное училище, где преподавал сам, а также его жена, Александра Ивановна, на руках которой было две малолетних дочери и обширное, как у любой деревенской женщины, хозяйство. Кроме того, отец Сергий участвовал в публичных духовно-нравственных собеседованиях в Московской читальне Комиссии народных чтений и был действительным членом Московской Покровской общины сестер милосердия.
В свободное от служения и преподавательских трудов время отец Сергий занимался пчеловодством и шелководством. За эту деятельность Императорским обществом акклиматизации он был награжден малой серебряной медалью с дипломом за пчеловодство и большой серебряной медалью за издание собственных учебных коллекций. А Императорским Московским обществом сельского хозяйства удостоен почетной благодарности, выраженной особым дипломом и бронзовой медалью за учебные коллекции. Об этом говорит ведомость о Благовещенской церкви за 1887 г., когда о. Сергию было лишь тридцать четыре года.
В селе к этому времени имелось ткацкое заведение. Число дворов в приходе равнялось пятидесяти восьми, жителей было 187 человек.
13 января 1893 г. причт, церковный староста и прихожане Благовещенской церкви обратились в Московскую духовную консисторию с прошением: «Существующая с 1732 г. в селе Бибирево деревянная Благовещенская церковь стала ветха, значительно покачнулась и является неотложная необходимость в постройке нового небольшого каменного храма. Имеется несколько благотворителей, которые желают оказать посильную помощь».
К прошению был приложен приговор прихожан о желании участвовать в постройке храма с обещанием лично выполнять все земляные работы: выровнять землю под храм, выкопать ров для фундамента, убрать землю и привезти необходимое количество песка для стройки.
Московский купец 2 гильдии Василий Панкратьевич Калинин, имеющий около села Бибирево свой кирпичный завод, обещал пожертвовать кирпич; московский мещанин Александр Александрович Цыплаков обещал пожертвовать бут под фундамент храма, а их сосед по землевладению, московский купец Вогау обещал оказать денежное пожертвование; надворный советник В.Н.Островцов обещал с помощью известных ему благотворителей достать иконы для иконостаса, хоругви и необходимое количество серебряной парчи на облачения престола и жертвенника.
Получив все эти сведения, Консистория направила благочинному указ провести дознание и донести, «удобно ли и прилично ли место, предполагаемое для храма». Благочинный ответил, что место, предназначенное для храма, удобное, вблизи него, как и во всем селе, нет трактирных и питейных заведений.
Но, несмотря на положительный ответ благочинного, Консистория не разрешила строить храм, сославшись на то, что имеющаяся в наличии сумма не соответствует указанной в смете. Тогда отец Сергий Соколов направляет в Консисторию еще одно прошение, с припиской игуменьи Вознесенского монастыря Евгении: «Из числа 3000 руб., означенных в сем прошении, 1200 руб. собраны между сестрами Московского Вознесенского монастыря, которые впредь обещают по возможности продолжить сбор, когда будет получено окончательное разрешение на постройку храма». Учитывая ходатайство игуменьи Евгении и благочинного И.Воскресенского, консистория дала разрешение на строительство храма.
«В результате стараний священника и прихожан, разрешение на строительство было получено в знаменательный для жителей местного прихода день — 13 июля.
Храм был заложен 8 августа 1893 года. По окончании Божественной Литургии, которую совершал настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Рафаил вместе с благочинным и священником Сергием Соколовым, диаконом Вознесенского монастыря Соловьевым и при полном хоре инокинь того же монастыря, духовенство с крестным ходом отправилось на место закладки храма, где был отслужен молебен с водосвятием и совершен чин закладки.
По окончании торжества игуменьей Евгенией присутствующим был предложен обед на монастырской даче, находящейся в усадьбе того же села, построенной ее предшественницей игуменьей Серафимой. Здесь было заведено обширное сельское хозяйство, которое служило подспорьем для монастыря. Игуменьей же Евгенией в том же 1893 г. (это был первый год ее игуменства в Вознесенском монастыре) был построен рядом с дачей большой двухэтажный дом для проживающим на хуторе монастыря монахинь и изба для молочного скота, а также разбит большой плодовый сад.
Проект был заказан московскому архитектору Феодору Васильевичу Рыбинскому (род.1859 г.). Он был сыном свободного художника, в 1891 г. окончил московское Училище живописи, ваяния и зодчества со званием классного художника архитектуры и начал практическую деятельность в 1891-1890 гг. в Строительном отделении Московского губернского правления. В фонде Строительного отделения сохранился подписанный им в 1893 г. проект. Архитектор Рыбинский не только безвозмездно подготовил проект, но и взял на себя архитектурный надзор за постройкой храма. Большое участие в строительстве принял Вознесенский монастырь (игумении Серафима, затем-Евгения), имевший близ села дачу с домом для жительства. Постройка храма вчерне была завершена в октябре 1893 г. Тогда же со стороны дороги была построена каменная ограда с большими святыми воротами.
23 мая 1894 г. состоялось торжественное поднятие креста на новый храм. Литургию совершали священник Покровской общины сестер милосердия и местный священник о. Сергий Соколов при хоре монахинь Вознесенского монастыря.
Торжественное освящение храма состоялось 21 августа 1894 г. Чин освящения и Литургию совершил еп.Нестор, викарий Московской епархии с двумя архимандритами. Пел хор монахинь Вознесенской обители. За богослужением присутствовали игуменья Евгения с сестрами и множество богомольцев.
В храме возле правого клироса в особом киоте помещалась точная копия с чудотворной иконы Божией Матери „Скоропослушница“, пожертвованная одной из монахинь Вознесенского монастыря. В храме находилась также икона преподобного Макария Желтоводского, которая чудесно явилась у источника на границе трех селений: Алтуфьево, Бибирево и Медведково. (Ныне эта икона — одна из святынь храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево.)
В январе 1895 г. игуменья Евгения обратилась к епископу Дмитровскому Нестору с просьбой разрешить построить в селе Бибиреве монастырский скотный двор. Постройкой этого двора завершился трехлетний строительный период в селе Бибирево.
При всем этом надо отметить, что содержание причта храма всегда было неудовлетворительным, что вызывало необходимость изыскивать средства к существованию.
Возведение храма прп. Сергия Радонежского
Построение в с. Бибирево нового храма в честь прп. Сергия Радонежского было связано с величайшим явлением милости Божией по молитвам сего святого угодника. «В 1873 г. в июле месяце в местном приходе и прилегающих к нему селениях была повальная холера, в селе умирало ежедневно от трех до пяти человек. В это время в селе Дегутине того же уезда носили икону преподобного Сергия, написанную на гробовой доске (т.е. доске от гроба преподобного Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). Настоятель храма и крестьяне села Бибирево попросили сопровождающих ее монахов прийти в их село.
13 июля икона была принесена в село и, как вспоминают очевидцы, совершилось нечто необыкновенное: несшие икону едва успевали идти, она неслась как бы по воздуху. Когда служили посреди села молебен, больные в предсмертных судорогах выходили и выползали из своих домов. С этого дня прекратилась эпидемия в селе и более не возобновлялась, и никто не умер после молебствия, даже из тяжелобольных.
Прихожане постановили ежегодно 13 июля служить молебен преподобному Сергию с водоосвящением и крестным ходом вокруг села, а в память об этом чудесном событии ими же приобретена икона преподобного Сергия». Тогда же возникла мысль о построении придела в честь сего святого угодника Божия.
Когда через двадцать лет деревянная Благовещенская церковь крайне обветшала, было решено построить в Бибирево новый каменный храм во имя прп.Сергия Радонежского. В это время священником в Бибирево был о.Сергий Соколов, деятельный пастырь-подвижник.
Новый храм был возведен при настоятеле о. Сергии Соколове.
Сергей Иванович Соколов родился в 1853 г. в семье дьячка Георгиевской церкви на Лубянке. Был отдан в Московскую духовную семинарию, где получил серьезное образование: кроме Священного Писания и других духовных предметов, там изучали логику, историю русской литературы, словесность, историю гражданскую всеобщую и Российскую, тригонометрию, геометрию, алгебру, латинский и греческий языки. Даже по меркам нашего времени Сергей Иванович был всесторонне образованным человеком. В мае 1878 г., с честью выдержав экзаменационные испытания, он был, по собственному прошению, уволен из третьего класса семинарии и определен преподавателем в народное училище села Поречье Можайского уезда. В 1884 г. епископом Дмитровским Амвросием был рукоположен во священники и определен в село Бибирево.
О. Сергий открыл в собственном доме начальное народное училище, где преподавал сам, а также его жена, Александра Ивановна, на руках которой было две малолетних дочери и обширное, как у любой деревенской женщины, хозяйство. Кроме того, отец Сергий участвовал в публичных духовно-нравственных собеседованиях в Московской читальне Комиссии народных чтений и был действительным членом Московской Покровской общины сестер милосердия.
В свободное от служения и преподавательских трудов время отец Сергий занимался пчеловодством и шелководством. За эту деятельность Императорским обществом акклиматизации он был награжден малой серебряной медалью с дипломом за пчеловодство и большой серебряной медалью за издание собственных учебных коллекций. А Императорским Московским обществом сельского хозяйства удостоен почетной благодарности, выраженной особым дипломом и бронзовой медалью за учебные коллекции. Об этом говорит ведомость о Благовещенской церкви за 1887 г., когда о. Сергию было лишь тридцать четыре года.
В селе к этому времени имелось ткацкое заведение. Число дворов в приходе равнялось пятидесяти восьми, жителей было 187 человек.
13 января 1893 г. причт, церковный староста и прихожане Благовещенской церкви обратились в Московскую духовную консисторию с прошением: «Существующая с 1732 г. в селе Бибирево деревянная Благовещенская церковь стала ветха, значительно покачнулась и является неотложная необходимость в постройке нового небольшого каменного храма. Имеется несколько благотворителей, которые желают оказать посильную помощь».
К прошению был приложен приговор прихожан о желании участвовать в постройке храма с обещанием лично выполнять все земляные работы: выровнять землю под храм, выкопать ров для фундамента, убрать землю и привезти необходимое количество песка для стройки.
Московский купец 2 гильдии Василий Панкратьевич Калинин, имеющий около села Бибирево свой кирпичный завод, обещал пожертвовать кирпич; московский мещанин Александр Александрович Цыплаков обещал пожертвовать бут под фундамент храма, а их сосед по землевладению, московский купец Вогау обещал оказать денежное пожертвование; надворный советник В.Н.Островцов обещал с помощью известных ему благотворителей достать иконы для иконостаса, хоругви и необходимое количество серебряной парчи на облачения престола и жертвенника.
Получив все эти сведения, Консистория направила благочинному указ провести дознание и донести, «удобно ли и прилично ли место, предполагаемое для храма». Благочинный ответил, что место, предназначенное для храма, удобное, вблизи него, как и во всем селе, нет трактирных и питейных заведений.
Но, несмотря на положительный ответ благочинного, Консистория не разрешила строить храм, сославшись на то, что имеющаяся в наличии сумма не соответствует указанной в смете. Тогда отец Сергий Соколов направляет в Консисторию еще одно прошение, с припиской игуменьи Вознесенского монастыря Евгении: «Из числа 3000 руб., означенных в сем прошении, 1200 руб. собраны между сестрами Московского Вознесенского монастыря, которые впредь обещают по возможности продолжить сбор, когда будет получено окончательное разрешение на постройку храма». Учитывая ходатайство игуменьи Евгении и благочинного И.Воскресенского, консистория дала разрешение на строительство храма.
«В результате стараний священника и прихожан, разрешение на строительство было получено в знаменательный для жителей местного прихода день — 13 июля.
Храм был заложен 8 августа 1893 года. По окончании Божественной Литургии, которую совершал настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Рафаил вместе с благочинным и священником Сергием Соколовым, диаконом Вознесенского монастыря Соловьевым и при полном хоре инокинь того же монастыря, духовенство с крестным ходом отправилось на место закладки храма, где был отслужен молебен с водосвятием и совершен чин закладки.
По окончании торжества игуменьей Евгенией присутствующим был предложен обед на монастырской даче, находящейся в усадьбе того же села, построенной ее предшественницей игуменьей Серафимой. Здесь было заведено обширное сельское хозяйство, которое служило подспорьем для монастыря. Игуменьей же Евгенией в том же 1893 г. (это был первый год ее игуменства в Вознесенском монастыре) был построен рядом с дачей большой двухэтажный дом для проживающим на хуторе монастыря монахинь и изба для молочного скота, а также разбит большой плодовый сад.
Проект был заказан московскому архитектору Феодору Васильевичу Рыбинскому (род.1859 г.). Он был сыном свободного художника, в 1891 г. окончил московское Училище живописи, ваяния и зодчества со званием классного художника архитектуры и начал практическую деятельность в 1891-1890 гг. в Строительном отделении Московского губернского правления. В фонде Строительного отделения сохранился подписанный им в 1893 г. проект. Архитектор Рыбинский не только безвозмездно подготовил проект, но и взял на себя архитектурный надзор за постройкой храма. Большое участие в строительстве принял Вознесенский монастырь (игумении Серафима, затем-Евгения), имевший близ села дачу с домом для жительства. Постройка храма вчерне была завершена в октябре 1893 г. Тогда же со стороны дороги была построена каменная ограда с большими святыми воротами.
23 мая 1894 г. состоялось торжественное поднятие креста на новый храм. Литургию совершали священник Покровской общины сестер милосердия и местный священник о. Сергий Соколов при хоре монахинь Вознесенского монастыря.
Торжественное освящение храма состоялось 21 августа 1894 г. Чин освящения и Литургию совершил еп.Нестор, викарий Московской епархии с двумя архимандритами. Пел хор монахинь Вознесенской обители. За богослужением присутствовали игуменья Евгения с сестрами и множество богомольцев.
В храме возле правого клироса в особом киоте помещалась точная копия с чудотворной иконы Божией Матери „Скоропослушница“, пожертвованная одной из монахинь Вознесенского монастыря. В храме находилась также икона преподобного Макария Желтоводского, которая чудесно явилась у источника на границе трех селений: Алтуфьево, Бибирево и Медведково. (Ныне эта икона — одна из святынь храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево.)
В январе 1895 г. игуменья Евгения обратилась к епископу Дмитровскому Нестору с просьбой разрешить построить в селе Бибиреве монастырский скотный двор. Постройкой этого двора завершился трехлетний строительный период в селе Бибирево.
При всем этом надо отметить, что содержание причта храма всегда было неудовлетворительным, что вызывало необходимость изыскивать средства к существованию.
В годы гонений
По неисповедимым судьбам Божиим, нормальная церковная жизнь и благолепие храма были восстановлены совсем ненадолго. Грянула революция, трагические последствия которой не могли не коснуться каждого благочестивого человека, тем более священнослужителя. К сожалению, сведения о жизни храма, причта, сестер Вознесенской обители в годы гонений, отрывочны и охватывают лишь отдельные периоды и события.
В ночь на 16 августа 1921 г. в южных дверях Благовещенского храма были взломаны замки и похищены две серебряно-вызолоченные чаши с полными приборами, три таких же напрестольных креста, дарохранительница, пасхальный трехсвечник и пелена с престола. Церковные вещи так и не были найдены.
В мае 1922 г. ВЦИК рабочих и крестьянских депутатов издал постановление об изъятии церковных ценностей. Из Благовещенского храма были изъяты ризы с запрестольного креста и семи икон, серебряные кресты, лампады и кадило и некоторые другие предметы. Однако, крестьяне любили церковь Божию и, как испокон веков все лучшее русский человек нес в храм Божий, так и теперь, сразу после изъятия ценностей в храм были пожертвованы три серебряно-вызолоченных лампады, напрестольное Евангелие, бронзовая Чаша с полным прибором, бронзовый напрестольный крест и старое серебряное кадило.
В феврале 1924 г., согласно новому законодательству, по просьбе прихожан была оформлена передача храма в пользование церковной общине.
Рассказывают, что в конце 1920-х гг. в Бибирево переселилась часть сестричества разоренной властями Марфо-Мариинской обители.
Монахини Вознесенского монастыря до середины 1930-х гг. продолжали жить на своем хуторе. продолжали хоронить на сельском приходском кладбище. По рассказам старожилов, под одним из сохранившихся доныне деревьев около алтаря находилась могила игуменьи. В 1918 г. монастырское подворье было ликвидировано и монахини создали сельхозартель, которая существовала до 1927 г., затем образовали артель по пошиву одеял, которая была закрыта в 1935 г. Матушки помогали священнику Бибиревского храма по уборке и украшению церкви, совершении богослужения, занимались рукоделием и обучали шитью и вышиванию сельских девочек. Кроме того, на их попечении оставались разросшийся плодовый сад, огороды и скотный двор. Одна из них, Прасковья Миронова была казначеем храма. Жили монахини вместе в одном доме. Несмотря на крайнюю бедность, подавали милостыню.
Священником Бибиревского храма в страшные тридцатые годы был о. Алексий Жданов. Немногие сведения о нем содержатся в материалах следственного дела.
Алексей Алексеевич родился в 1893 г., в деревне Слободка Лебедянского уезда Тамбовской губернии в семье псаломщика. В 1916 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию. В дни октябрьской революции жил вместе со своим отцом, Алексеем Михайловичем. Они занимались сельским хозяйством, имея дом, лошадь, корову, фруктовый сад, пчел и 12 га земли. „Служителем культа“ (как сказано в судебном деле) Алексей Алексеевич стал в 1923 г., т.е. во время разгара безбожных гонений. Несмотря на страшное время, он принимает решение остаться верным сыном гонимой Церкви и, прекрасно зная, какая судьба его ждет, становится священником и назначается в с. Красное Красинского района Тамбовской области.
В 1924 г. о. Алексий, его супруга Вера Павловна, происходившая тоже из духовного сословия, и отец о.Алексия были лишены избирательных прав как „служители культа“. В 1928 г. у отца за невыполнение твердого задания было отобрано все имущество. „Твердое задание“- жесткий вид налога, произвольно назначаемого властями в любом объеме, по причине чего его было невозможно выполнить. В 1930 г. о.Алексий был осужден за неуплату семфонда. Он отбыл один год в исправительно-трудовых лагерях. В 1930 г. был осужден за неуплату налогов на пять лет лишения свободы, но через несколько месяцев был освобожден по кассации Верховного суда.
С 1931 г. о. Алексий живет в Бибирево и служит в храме прп. Сергия.
23 марта 1938 г., вместе с семью монахинями Вознесенского монастыря, он был арестован и предан суду „тройки“ УНКВД. Им были предъявлены обвинения в организации „группы церковников, ведущих антисоветскую агитацию“, в распространении клеветы на колхозы.
Из материалов дела:
"С ликвидацией монастыря монашки прибыли в д. Бибирево в бывшую "дачу усадьбу", принадлежащую ранее московскому Вознесенскому монастырю, где образовали "филиал монастыря", взяв под непосредственное обслуживание и руководство церковь, расположенную рядом с их дачей, организовали группу верующих из окрестных селений — Бибирево, Подушкино, Лианозово и др., всего 1500 человек, и под видом религиозных обрядов внедряли в массы свои антисоветские контрреволюционные взгляды. С 1932 г. к ним примкнул враждебно настроенный по отношению к советской власти служитель культа Жданов".
Они предоставляли кров священникам и "монашкам, бежавшим из мест ссылок, которых они скрывали в своем доме по нескольку месяцев без всяких документов". То есть им ставилось в вину даже дело милосердия по отношению к их гонимым собратьям.
Обвиняемые монахини Вознесенского монастыря:
«Миронова Прасковья (51 г.), являлась руководительницей денежных средств в церкви д. Бибирево;
Донская Дария (54 г.), работает ручницей на фабрике г. Москвы;
Власова Ксения, работает санитаркой в Красно-советской больнице;
Каратаева Евдокия, работает в детских яслях, монашка-послушница игумении Евгении;
Миронова Евдокия, работает в детских яслях;
Машкина Анастасия, работает няней в Красно-советской больнице;
Новикова Марфа (65 лет), мать Миропия, существует на то, что ходит по деревням и читает псалтирь о умерших».
«В декабре 1937 г., перед выборами в Верховный совет СССР монашки созвали свое собрание под руководством Жданова и обсуждали вопрос о выборах. На собрании Жданов говорил: "Надо являться всем на выборы, а то за неявку советская власть лишит всех прав, отберет паспорта и вышлет умирать с голоду". Еще он говорил: "Советская власть плохая, жить стало трудно, скоро будет война, советской власти не будет, будет Царь".
Виновным себя Жданов признал только в том, что враждебно относился к советской власти за репрессии, но проведение контрреволюционной агитации отрицал».
Все монахини получили по 8-10 лет лагерей.
Отец Алексий 7 июня 1938 г. был приговорен «тройкой» УНКВД к расстрелу. Постановление приведено в исполнение 4 июля 1938 г. на Бутовском полигоне.
Его супруге Вере Павловне, оставшейся с двумя малолетними сыновьями на руках, сообщили, что отец Алексий осужден на десять лет без права переписки и выслан в дальние лагеря. До 1957 г. они ничего не знали о его судьбе. В 1957 г. Вера Павловна обратилась в КГБ СССР с просьбой сообщить о судьбе своего мужа, о том, жив он или умер, и в Главную прокуратуру СССР с просьбой о его реабилитации. В связи с этим было рассмотрено дело отца Алексия и монахинь Вознесенского монастыря и обнаружено, что «в основу его обвинения были положены противоречивые показания свидетеля Грибова о разговорах антисоветского характера группы лиц, привлеченных по делу, и эти разговоры свидетелю Грибову стали известны от третьих лиц, которые по делу не допрашивались. Кто конкретно вел антисоветские разговоры из этих показаний не видно».
22 ноября 1957 г. Президиум Московского областного суда принял решение: «Постановление тройки при УНКВД по Московской области в отношении Жданова Алексея Алексеевича отменить и дело о нем за недоказанностью обвинения производством прекратить».
Матушка отца Алексия, Вера Павловна работала медсестрой в Лианозовской поликлинике (в 1957 г.). Будучи выброшена с детьми из дома, она нашла приют у главврача больницы, жившего в старой квартире с большой прихожей, где он и поселил матушку. Младший сын, Михаил, работал потом на заводе «почтовый ящик“ N 31». Старший сын, Николай, погиб на войне 13 января 1945 г. (он служил в танковой части).
Несмотря на скудность сведений о жизни и мученическом подвиге священника Алексия Жданова, несомненно, что он был достойнейшим пастырем, мужественно принявшим на себя служение Церкви в страшные годы гонений, не оговорившим на мучительном, возможно с применением пыток, следствии ни себя, ни кого-либо другого. Надеемся на прославление отца Алексия в лике Новомучеников Российских.
Из воспоминаний очевидцев
Лжесвидетель Грибов, виновный в смерти священника и заключении в лагеря монахинь, был ни кем иным, как председателем сельсовета. Старожилы рассказывают, что он обладал паталогической ненавистью к вере и святыням; погубил многих невинных людей. Одна раба Божия, приходя к нему в то время по делам, видела, как он колол топором иконы и топил ими печь.
После ареста других сестер схимонахиня Филарета тайно жила в доме старосты храма Александры, в маленьком незаметном закутке за печкой. Она была уже очень пожилая. Александра рассказала хорошо знакомой ей благочестивой женщине Любови следующее. Один нищий многократно настойчиво расспрашивал ее, кто находится в ее доме. На вопрос, почему это так интересует его, он сказал, что видел над домом огненный столп, поднимающийся к небу.
Схимонахиня Филарета скончалась примерно в 1945-47гг. и была похоронена в могилу схииг.Екатерины, скончавшейся примерно в 1926 гг. Могила находилась напротив алтаря.
Монахини Миропия и Евдокия вначале находились в Бутырской тюрьме, потом были сосланы в Сибирь. Монахиня Миропия там и скончалась, о чем рассказала мон. Евдокия, которая возвратилась в нач. 50-х гг. и уехала жить в деревню к брату.
Вспоминают, что в Бибирево нередко заходил священник Михаил, в годы гонений взявший на себя подвиг странничества, а, возможно, и юродства. Дожившие до наших дней свидетельницы были в то время маленькими детьми, но некоторые его неординарные предсказания им запомнились. Рабе Божией Любови о.Михаил сказал, что она будет жить в очень высоком доме, но из чего будет дом, он не знает. Через десятки лет село Биберево стало одним из районов Москвы, застроенных многоэтажными панельными домами. Действительно, их семье дали квартиру в таком доме. Дети запомнили также, что в 20-е годы был разогнан женский монастырь на станции Бескудниковская. Игуменья со слезами передала в эту благочестивую семью монастырскую икону Воскресения Христова.
В 1931 г. в селе Бибирево был образован колхоз. Около 1935-1936 гг. и Благовещенский, и Сергиевский храмы были закрыты. Предлогом для закрытия послужило то, что церковный совет якобы украл ковры из церкви. Члены совета получили небольшие сроки, а власти смогли беспрепятственно закрыть храм. После закрытия колхоз быстро приспособил храмы под свои нужды. Деревянную Благовещенскую церковь и колокольню разобрали. Из толстых и прочных бревен была построена колхозная ферма. В каменной церкви прп. Сергия Радонежского первоначально был устроен склад комбикорма, прямо в алтаре. Сельский некрополь, где покоились отцы, матери и деды колхозников, подвергся разорению: деревянные кресты были уничтожены, а некоторые могилы вскрыты.
В 30-е годы храмом завладел директор небольшого завода металлоизделий, что повлекло за собой уничтожение интерьера и разделение внутреннего объема храма на два этажа; директор сразу же принялся ломать внутреннее убранство и возводить пристройки. В 1967 в храме помещалась фабрика по изготовлению выключателей, а вокруг стояли совхозные теплицы, где выращивали огурцы. С северной стороны была кирпичная пристройка. В 1980 г. здесь уже была автомастерская без вывески. На луковичной главе сохранялся крест, хотя сама глава существовала в виде металлического каркаса. Обезобразившие храм пристройки облепляли его со всех сторон, их обнесли деревянным забором. К началу 1980-х годов последние жители были переселены в новые районы, последние хозяева оставили бывший храм. В это время были утрачены крест и глава.
Об этом сохранились воспоминания очевидцев: «В 1972 г. мы переехали на жительство в Бибирево. Церковь стояла тогда среди благоухающей травы в овраге. А в храме был какой-то слесарный цех. Храм не действовал, но крест над ним был такой, какого я больше никогда и нигде не видела: какой-то он был стройный, изящный и легкий, а в середине креста, где пересечение, была вставлена довольно большая икона: на лазоревом (по-моему, на эмали) фоне золотое выпуклое изображение Божией Матери с Младенцем Христом на руках. Красоты необыкновенной! Так прошло два с половиной года. Вдруг крест исчез, кто-то его снял.
Не так давно в разговоре с церковнослужителем Евгением Николаевичем (он впоследствии работал сторожем при этом храме, принимал участие в похоронах первого настоятеля храма после его открытия—отца Петра) услышала, что какие-то жители позарились на крест, решили, что там есть золото. И вот какой-то человек, взяв с собою сына лет 13-14, сел на трактор; они, видимо, как-то зацепили крест и при помощи трактора сорвали его и поволокли к дому на Костромской улице. Их путь пролегал через маленький прудик или около него. Дело было поздней осенью. Когда они переезжали через пруд, трос лопнул, ударил мальчика и убил насмерть, а крест погрузился в глубину пруда, где и до сих пор, по-видимому, пребывает. Потом пруд засыпали, а по прошествии примерно восьми лет построили здание (вроде бы стоматологическую поликлинику)».
На государственной охране здание храма не числилось, хотя представляло собой характерный образец сельского храма в русском стиле конца ХIХ в. Кроме того, храм даже в заброшенном виде, был украшением нового района, сплошь заставленного одинаковыми прямоугольными жилыми постройками, лишенными всяких архитектурных достоинств.
В конце 1980-х гг., в связи со строительством станции метро «Бибирево», над Сергиевским храмом нависла новая угроза уничтожения. Прихожанин храма вспоминает: «Решили снести храм и подогнали к нему строительную машину с металлическим шаром, специально для сноса старых зданий. Стали раскачивать шар и бить по храму. Любое другое здание-храм-то маленький-разлетелось бы от первых ударов. А храм нет-стоит. Водитель выпрыгнул из своей машины и бежать. Видимо, испугался. Да, у нашего храма и стены святые».
К счастью, Кировскому районному отделению Всероссийского общества охраны памятников удалось спасти церковь и начать работы по консервации. О реставрации не могло быть и речи — не было средств.
По неисповедимым судьбам Божиим, нормальная церковная жизнь и благолепие храма были восстановлены совсем ненадолго. Грянула революция, трагические последствия которой не могли не коснуться каждого благочестивого человека, тем более священнослужителя. К сожалению, сведения о жизни храма, причта, сестер Вознесенской обители в годы гонений, отрывочны и охватывают лишь отдельные периоды и события.
В ночь на 16 августа 1921 г. в южных дверях Благовещенского храма были взломаны замки и похищены две серебряно-вызолоченные чаши с полными приборами, три таких же напрестольных креста, дарохранительница, пасхальный трехсвечник и пелена с престола. Церковные вещи так и не были найдены.
В мае 1922 г. ВЦИК рабочих и крестьянских депутатов издал постановление об изъятии церковных ценностей. Из Благовещенского храма были изъяты ризы с запрестольного креста и семи икон, серебряные кресты, лампады и кадило и некоторые другие предметы. Однако, крестьяне любили церковь Божию и, как испокон веков все лучшее русский человек нес в храм Божий, так и теперь, сразу после изъятия ценностей в храм были пожертвованы три серебряно-вызолоченных лампады, напрестольное Евангелие, бронзовая Чаша с полным прибором, бронзовый напрестольный крест и старое серебряное кадило.
В феврале 1924 г., согласно новому законодательству, по просьбе прихожан была оформлена передача храма в пользование церковной общине.
Рассказывают, что в конце 1920-х гг. в Бибирево переселилась часть сестричества разоренной властями Марфо-Мариинской обители.
Монахини Вознесенского монастыря до середины 1930-х гг. продолжали жить на своем хуторе. продолжали хоронить на сельском приходском кладбище. По рассказам старожилов, под одним из сохранившихся доныне деревьев около алтаря находилась могила игуменьи. В 1918 г. монастырское подворье было ликвидировано и монахини создали сельхозартель, которая существовала до 1927 г., затем образовали артель по пошиву одеял, которая была закрыта в 1935 г. Матушки помогали священнику Бибиревского храма по уборке и украшению церкви, совершении богослужения, занимались рукоделием и обучали шитью и вышиванию сельских девочек. Кроме того, на их попечении оставались разросшийся плодовый сад, огороды и скотный двор. Одна из них, Прасковья Миронова была казначеем храма. Жили монахини вместе в одном доме. Несмотря на крайнюю бедность, подавали милостыню.
Священником Бибиревского храма в страшные тридцатые годы был о. Алексий Жданов. Немногие сведения о нем содержатся в материалах следственного дела.
Алексей Алексеевич родился в 1893 г., в деревне Слободка Лебедянского уезда Тамбовской губернии в семье псаломщика. В 1916 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию. В дни октябрьской революции жил вместе со своим отцом, Алексеем Михайловичем. Они занимались сельским хозяйством, имея дом, лошадь, корову, фруктовый сад, пчел и 12 га земли. „Служителем культа“ (как сказано в судебном деле) Алексей Алексеевич стал в 1923 г., т.е. во время разгара безбожных гонений. Несмотря на страшное время, он принимает решение остаться верным сыном гонимой Церкви и, прекрасно зная, какая судьба его ждет, становится священником и назначается в с. Красное Красинского района Тамбовской области.
В 1924 г. о. Алексий, его супруга Вера Павловна, происходившая тоже из духовного сословия, и отец о.Алексия были лишены избирательных прав как „служители культа“. В 1928 г. у отца за невыполнение твердого задания было отобрано все имущество. „Твердое задание“- жесткий вид налога, произвольно назначаемого властями в любом объеме, по причине чего его было невозможно выполнить. В 1930 г. о.Алексий был осужден за неуплату семфонда. Он отбыл один год в исправительно-трудовых лагерях. В 1930 г. был осужден за неуплату налогов на пять лет лишения свободы, но через несколько месяцев был освобожден по кассации Верховного суда.
С 1931 г. о. Алексий живет в Бибирево и служит в храме прп. Сергия.
23 марта 1938 г., вместе с семью монахинями Вознесенского монастыря, он был арестован и предан суду „тройки“ УНКВД. Им были предъявлены обвинения в организации „группы церковников, ведущих антисоветскую агитацию“, в распространении клеветы на колхозы.
Из материалов дела:
"С ликвидацией монастыря монашки прибыли в д. Бибирево в бывшую "дачу усадьбу", принадлежащую ранее московскому Вознесенскому монастырю, где образовали "филиал монастыря", взяв под непосредственное обслуживание и руководство церковь, расположенную рядом с их дачей, организовали группу верующих из окрестных селений — Бибирево, Подушкино, Лианозово и др., всего 1500 человек, и под видом религиозных обрядов внедряли в массы свои антисоветские контрреволюционные взгляды. С 1932 г. к ним примкнул враждебно настроенный по отношению к советской власти служитель культа Жданов".
Они предоставляли кров священникам и "монашкам, бежавшим из мест ссылок, которых они скрывали в своем доме по нескольку месяцев без всяких документов". То есть им ставилось в вину даже дело милосердия по отношению к их гонимым собратьям.
Обвиняемые монахини Вознесенского монастыря:
«Миронова Прасковья (51 г.), являлась руководительницей денежных средств в церкви д. Бибирево;
Донская Дария (54 г.), работает ручницей на фабрике г. Москвы;
Власова Ксения, работает санитаркой в Красно-советской больнице;
Каратаева Евдокия, работает в детских яслях, монашка-послушница игумении Евгении;
Миронова Евдокия, работает в детских яслях;
Машкина Анастасия, работает няней в Красно-советской больнице;
Новикова Марфа (65 лет), мать Миропия, существует на то, что ходит по деревням и читает псалтирь о умерших».
«В декабре 1937 г., перед выборами в Верховный совет СССР монашки созвали свое собрание под руководством Жданова и обсуждали вопрос о выборах. На собрании Жданов говорил: "Надо являться всем на выборы, а то за неявку советская власть лишит всех прав, отберет паспорта и вышлет умирать с голоду". Еще он говорил: "Советская власть плохая, жить стало трудно, скоро будет война, советской власти не будет, будет Царь".
Виновным себя Жданов признал только в том, что враждебно относился к советской власти за репрессии, но проведение контрреволюционной агитации отрицал».
Все монахини получили по 8-10 лет лагерей.
Отец Алексий 7 июня 1938 г. был приговорен «тройкой» УНКВД к расстрелу. Постановление приведено в исполнение 4 июля 1938 г. на Бутовском полигоне.
Его супруге Вере Павловне, оставшейся с двумя малолетними сыновьями на руках, сообщили, что отец Алексий осужден на десять лет без права переписки и выслан в дальние лагеря. До 1957 г. они ничего не знали о его судьбе. В 1957 г. Вера Павловна обратилась в КГБ СССР с просьбой сообщить о судьбе своего мужа, о том, жив он или умер, и в Главную прокуратуру СССР с просьбой о его реабилитации. В связи с этим было рассмотрено дело отца Алексия и монахинь Вознесенского монастыря и обнаружено, что «в основу его обвинения были положены противоречивые показания свидетеля Грибова о разговорах антисоветского характера группы лиц, привлеченных по делу, и эти разговоры свидетелю Грибову стали известны от третьих лиц, которые по делу не допрашивались. Кто конкретно вел антисоветские разговоры из этих показаний не видно».
22 ноября 1957 г. Президиум Московского областного суда принял решение: «Постановление тройки при УНКВД по Московской области в отношении Жданова Алексея Алексеевича отменить и дело о нем за недоказанностью обвинения производством прекратить».
Матушка отца Алексия, Вера Павловна работала медсестрой в Лианозовской поликлинике (в 1957 г.). Будучи выброшена с детьми из дома, она нашла приют у главврача больницы, жившего в старой квартире с большой прихожей, где он и поселил матушку. Младший сын, Михаил, работал потом на заводе «почтовый ящик“ N 31». Старший сын, Николай, погиб на войне 13 января 1945 г. (он служил в танковой части).
Несмотря на скудность сведений о жизни и мученическом подвиге священника Алексия Жданова, несомненно, что он был достойнейшим пастырем, мужественно принявшим на себя служение Церкви в страшные годы гонений, не оговорившим на мучительном, возможно с применением пыток, следствии ни себя, ни кого-либо другого. Надеемся на прославление отца Алексия в лике Новомучеников Российских.
Из воспоминаний очевидцев
Лжесвидетель Грибов, виновный в смерти священника и заключении в лагеря монахинь, был ни кем иным, как председателем сельсовета. Старожилы рассказывают, что он обладал паталогической ненавистью к вере и святыням; погубил многих невинных людей. Одна раба Божия, приходя к нему в то время по делам, видела, как он колол топором иконы и топил ими печь.
После ареста других сестер схимонахиня Филарета тайно жила в доме старосты храма Александры, в маленьком незаметном закутке за печкой. Она была уже очень пожилая. Александра рассказала хорошо знакомой ей благочестивой женщине Любови следующее. Один нищий многократно настойчиво расспрашивал ее, кто находится в ее доме. На вопрос, почему это так интересует его, он сказал, что видел над домом огненный столп, поднимающийся к небу.
Схимонахиня Филарета скончалась примерно в 1945-47гг. и была похоронена в могилу схииг.Екатерины, скончавшейся примерно в 1926 гг. Могила находилась напротив алтаря.
Монахини Миропия и Евдокия вначале находились в Бутырской тюрьме, потом были сосланы в Сибирь. Монахиня Миропия там и скончалась, о чем рассказала мон. Евдокия, которая возвратилась в нач. 50-х гг. и уехала жить в деревню к брату.
Вспоминают, что в Бибирево нередко заходил священник Михаил, в годы гонений взявший на себя подвиг странничества, а, возможно, и юродства. Дожившие до наших дней свидетельницы были в то время маленькими детьми, но некоторые его неординарные предсказания им запомнились. Рабе Божией Любови о.Михаил сказал, что она будет жить в очень высоком доме, но из чего будет дом, он не знает. Через десятки лет село Биберево стало одним из районов Москвы, застроенных многоэтажными панельными домами. Действительно, их семье дали квартиру в таком доме. Дети запомнили также, что в 20-е годы был разогнан женский монастырь на станции Бескудниковская. Игуменья со слезами передала в эту благочестивую семью монастырскую икону Воскресения Христова.
В 1931 г. в селе Бибирево был образован колхоз. Около 1935-1936 гг. и Благовещенский, и Сергиевский храмы были закрыты. Предлогом для закрытия послужило то, что церковный совет якобы украл ковры из церкви. Члены совета получили небольшие сроки, а власти смогли беспрепятственно закрыть храм. После закрытия колхоз быстро приспособил храмы под свои нужды. Деревянную Благовещенскую церковь и колокольню разобрали. Из толстых и прочных бревен была построена колхозная ферма. В каменной церкви прп. Сергия Радонежского первоначально был устроен склад комбикорма, прямо в алтаре. Сельский некрополь, где покоились отцы, матери и деды колхозников, подвергся разорению: деревянные кресты были уничтожены, а некоторые могилы вскрыты.
В 30-е годы храмом завладел директор небольшого завода металлоизделий, что повлекло за собой уничтожение интерьера и разделение внутреннего объема храма на два этажа; директор сразу же принялся ломать внутреннее убранство и возводить пристройки. В 1967 в храме помещалась фабрика по изготовлению выключателей, а вокруг стояли совхозные теплицы, где выращивали огурцы. С северной стороны была кирпичная пристройка. В 1980 г. здесь уже была автомастерская без вывески. На луковичной главе сохранялся крест, хотя сама глава существовала в виде металлического каркаса. Обезобразившие храм пристройки облепляли его со всех сторон, их обнесли деревянным забором. К началу 1980-х годов последние жители были переселены в новые районы, последние хозяева оставили бывший храм. В это время были утрачены крест и глава.
Об этом сохранились воспоминания очевидцев: «В 1972 г. мы переехали на жительство в Бибирево. Церковь стояла тогда среди благоухающей травы в овраге. А в храме был какой-то слесарный цех. Храм не действовал, но крест над ним был такой, какого я больше никогда и нигде не видела: какой-то он был стройный, изящный и легкий, а в середине креста, где пересечение, была вставлена довольно большая икона: на лазоревом (по-моему, на эмали) фоне золотое выпуклое изображение Божией Матери с Младенцем Христом на руках. Красоты необыкновенной! Так прошло два с половиной года. Вдруг крест исчез, кто-то его снял.
Не так давно в разговоре с церковнослужителем Евгением Николаевичем (он впоследствии работал сторожем при этом храме, принимал участие в похоронах первого настоятеля храма после его открытия—отца Петра) услышала, что какие-то жители позарились на крест, решили, что там есть золото. И вот какой-то человек, взяв с собою сына лет 13-14, сел на трактор; они, видимо, как-то зацепили крест и при помощи трактора сорвали его и поволокли к дому на Костромской улице. Их путь пролегал через маленький прудик или около него. Дело было поздней осенью. Когда они переезжали через пруд, трос лопнул, ударил мальчика и убил насмерть, а крест погрузился в глубину пруда, где и до сих пор, по-видимому, пребывает. Потом пруд засыпали, а по прошествии примерно восьми лет построили здание (вроде бы стоматологическую поликлинику)».
На государственной охране здание храма не числилось, хотя представляло собой характерный образец сельского храма в русском стиле конца ХIХ в. Кроме того, храм даже в заброшенном виде, был украшением нового района, сплошь заставленного одинаковыми прямоугольными жилыми постройками, лишенными всяких архитектурных достоинств.
В конце 1980-х гг., в связи со строительством станции метро «Бибирево», над Сергиевским храмом нависла новая угроза уничтожения. Прихожанин храма вспоминает: «Решили снести храм и подогнали к нему строительную машину с металлическим шаром, специально для сноса старых зданий. Стали раскачивать шар и бить по храму. Любое другое здание-храм-то маленький-разлетелось бы от первых ударов. А храм нет-стоит. Водитель выпрыгнул из своей машины и бежать. Видимо, испугался. Да, у нашего храма и стены святые».
К счастью, Кировскому районному отделению Всероссийского общества охраны памятников удалось спасти церковь и начать работы по консервации. О реставрации не могло быть и речи — не было средств.
Возрождение Сергиевского храма.
В 1989 г. Сергиевский храм был передан общине верующих. До начала 1990 г. место настоятеля оставалось вакантным, многие священники отказывались занять его, пугаясь размеров предстоящих реставрационных работ.
В январе 1990 г. настоятелем храма был назначен отец Петр Давыдов. Благодаря его деятельности и бескорыстной помощи прихожан 24 марта 1990 г. храм был освящен. С этого времени по настоянию отца Петра шло регулярное богослужение в полуразрушенном храме. В 1992 г. построен кирпичный дом для причта, к храму пристроена крытая паперть. Построен Благовещенский придел, в память о Благовещенском храме, утраченном безвозвратно, на его месте. Открыта воскресная школа.
Именно отцу Петру мы обязаны тем, что храм открыт, восстановлен и в нем совершается служба Богу. Батюшка до прихода в Сергиевский храм служил в храме Иоанна Воина на Якиманке, в храме Тихвинской иконы Божией Матери около станции метро «Алексеевская». В этот храм он пришел уже в возрасте 62 лет. И за 12 лет самоотверженного труда ему удалось с Божией помощью сделать очень и очень многое. Несмотря ни на преклонный возраст, ни на болезни, батюшка лично руководил всеми реставрационно-строительными работами, нанимал людей, закупал стойматериалы, покупал церковную утварь, иконы и многое-многое другое, сам красил, штукатурил и т.д. Батюшка сам реставрировал старинные иконы. Он был совершенно нестяжательным; вспоминают, что деньги за требы всегда старался отдать певчим.
По характеру отец Петр был человеком очень скромным, по-христиански смиренным, не любил быть в центре внимания, тяготился празднествами и застольями. Он любил быть один, чтобы молиться и беседовать с Богом. После смерти у него в вещах нашли монашеский клобук: батюшка хотел принять монашеский постриг. Батюшка очень любил животных.
Отец Петр обладал ценными деловыми качествами, был хорошим администратором, к подчиненным был требователен. Однако, когда к нему приходили люди со своими скорбями и житейскими проблемами, он умел утешить, как никто. Разговаривал со всеми, кто к нему обращался безотказно.
В последние годы жизни отец Петр постоянно был при храме. Даже и умер при храме, приехав сюда из дома, чтобы решить некоторые хозяйственные дела. Как жил отец Петр для того, чтобы послужить Богу, Православной Церкви и людям, приходившим в восстановленный им храм,—так же он и умер, исполняя свой долг христианина. И верим, что он сделался новым небесным покровителем нашего храма и всех жителей района Бибирево.
В августе 2002 г. настоятелем храма прп. Сергия Радонежского был назначен иеромонах Сергий (Рыбко), на территории которого начал строительство нового храма в честь Собора Московских святы. Одновременно о. Сергий настоятельствовал в храме Святаго Духа сошествия на б. Лазаревском кладбище.
Архимандрит Сергий (в миру — Юрий Иосифович Рыбко) родился в 1960 г. в Тверской области. Окончил Московскую духовную семинарию.
В 1988 г. поступил в Оптину пустынь.
3 сентября 1989 г. рукоположен в сан диакона.
23 марта 1990 г. пострижен в монашество с именем Сергий в честь прп. Сергия, игумена Радонежского.
8 апреля 1990 г. рукоположен в сан иеромонаха.
В 1992 г. направлен на подворье Оптиной пустыни в Москве.
31 августа 1994 г. назначен настоятелем храма Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище. х.
В 2003 г. возведен в сан игумена.
В начале 2000-х гг. занимался миссионерской деятельностью среди неформальной молодежи. В 2004 году за труды по духовно-нравственному воспитанию и просвещению молодежи удостоен премии «Обретенное поколение», учрежденной Отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви и Правительством г. Москвы.
В 1989 г. Сергиевский храм был передан общине верующих. До начала 1990 г. место настоятеля оставалось вакантным, многие священники отказывались занять его, пугаясь размеров предстоящих реставрационных работ.
В январе 1990 г. настоятелем храма был назначен отец Петр Давыдов. Благодаря его деятельности и бескорыстной помощи прихожан 24 марта 1990 г. храм был освящен. С этого времени по настоянию отца Петра шло регулярное богослужение в полуразрушенном храме. В 1992 г. построен кирпичный дом для причта, к храму пристроена крытая паперть. Построен Благовещенский придел, в память о Благовещенском храме, утраченном безвозвратно, на его месте. Открыта воскресная школа.
Именно отцу Петру мы обязаны тем, что храм открыт, восстановлен и в нем совершается служба Богу. Батюшка до прихода в Сергиевский храм служил в храме Иоанна Воина на Якиманке, в храме Тихвинской иконы Божией Матери около станции метро «Алексеевская». В этот храм он пришел уже в возрасте 62 лет. И за 12 лет самоотверженного труда ему удалось с Божией помощью сделать очень и очень многое. Несмотря ни на преклонный возраст, ни на болезни, батюшка лично руководил всеми реставрационно-строительными работами, нанимал людей, закупал стойматериалы, покупал церковную утварь, иконы и многое-многое другое, сам красил, штукатурил и т.д. Батюшка сам реставрировал старинные иконы. Он был совершенно нестяжательным; вспоминают, что деньги за требы всегда старался отдать певчим.
По характеру отец Петр был человеком очень скромным, по-христиански смиренным, не любил быть в центре внимания, тяготился празднествами и застольями. Он любил быть один, чтобы молиться и беседовать с Богом. После смерти у него в вещах нашли монашеский клобук: батюшка хотел принять монашеский постриг. Батюшка очень любил животных.
Отец Петр обладал ценными деловыми качествами, был хорошим администратором, к подчиненным был требователен. Однако, когда к нему приходили люди со своими скорбями и житейскими проблемами, он умел утешить, как никто. Разговаривал со всеми, кто к нему обращался безотказно.
В последние годы жизни отец Петр постоянно был при храме. Даже и умер при храме, приехав сюда из дома, чтобы решить некоторые хозяйственные дела. Как жил отец Петр для того, чтобы послужить Богу, Православной Церкви и людям, приходившим в восстановленный им храм,—так же он и умер, исполняя свой долг христианина. И верим, что он сделался новым небесным покровителем нашего храма и всех жителей района Бибирево.
В августе 2002 г. настоятелем храма прп. Сергия Радонежского был назначен иеромонах Сергий (Рыбко), на территории которого начал строительство нового храма в честь Собора Московских святы. Одновременно о. Сергий настоятельствовал в храме Святаго Духа сошествия на б. Лазаревском кладбище.
Архимандрит Сергий (в миру — Юрий Иосифович Рыбко) родился в 1960 г. в Тверской области. Окончил Московскую духовную семинарию.
В 1988 г. поступил в Оптину пустынь.
3 сентября 1989 г. рукоположен в сан диакона.
23 марта 1990 г. пострижен в монашество с именем Сергий в честь прп. Сергия, игумена Радонежского.
8 апреля 1990 г. рукоположен в сан иеромонаха.
В 1992 г. направлен на подворье Оптиной пустыни в Москве.
31 августа 1994 г. назначен настоятелем храма Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище. х.
В 2003 г. возведен в сан игумена.
В начале 2000-х гг. занимался миссионерской деятельностью среди неформальной молодежи. В 2004 году за труды по духовно-нравственному воспитанию и просвещению молодежи удостоен премии «Обретенное поколение», учрежденной Отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви и Правительством г. Москвы.
Возведение храма Собора Московских святых.
23 февраля 2020 года, в Неделю мясопустную, о Страшном Суде, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Собора Московских святых в Бибиреве г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме. Были освящены три престола: главный — в честь Собора Московских святых; правый — в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»; левый — в честь святителя Николая Чудотворца. В дар храму Святейший Владыка передал вышитую плащаницу. «Пусть Господь хранит вас всех, укрепляет в жизни духовной, дает физические силы и помогает восходить от силы к силе, приуготовляя себя к встрече Светлого Христова Воскресения. Аминь», — добавил Предстоятель Русской Церкви. Затем Святейший Патриарх огласил указ, которым игумен Сергий (Рыбко) во внимание к трудам по строительству храма Собора Московских святых в Бибиреве г. Москвы был удостоен сана архимандрита.
Храм Собора Московских святых построен на территории храма преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве г. Москвы.
Строительство храма Собора Московских святых началось в 2003 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II на средства прихода храма Святого Духа сошествия на Лазаревском кладбище г. Москвы, который являлся основным инвестором в период строительства. Все строительство и благоукрашение храма было осуществлено силами двух приходов, без привлечения спонсорских средств.
Так как малый храм прп. Сергия Радонежского, являющийся памятником архитектуры, уже не мог вместить всех прихожан, в целях обеспечения возможности служить Божественную литургию (пока новый храм не будет полностью построен) было решено выстроить сначала один придел в цоколе строящегося храма и полностью обустроить его для совершения богослужений.
На Рождество Христово 2005 года была совершена первая Литургия в цокольном приделе, посвященном равноапостольному Николаю Японскому. В 2007 году был освящен приставной престол в честь блаженной Ксении Петербургской.
Весной 2009 года была отслужена первая Литургия в верхнем храме — в приделе в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Первая Литургия на главном престоле в честь Собора Московских святых была совершена на Пасху 2012 года.
В 2015 году храм Собора Московских святых был введен в эксплуатацию. Храм Собора Московских святых — одноэтажный с цокольным этажом, пристроенной колокольней высотой более 45 метров и симметричной ей звонницей, с пристройкой главного западного входа и встроенными пятью апсидами. Здание храма четырехстолпное, диаметр центрального барабана, стоящего на четырех столбах, — 12 метров, высота центрального купола с крестом — 39 метров.
Храм имеет 6 алтарей: пять расположены на первом этаже — главный посвящен Собору Московских святых, два крайних придела устроены в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и святителя Николая Мирликийского, два малых — в честь Новомучеников Бутовских и преподобной Евфросинии Московской. Один, посвященный равноапостольному Николаю Японскому, расположен в цокольной части храма. Кроме того, в храме имеется приставной престол с антиминсом в честь блаженной Ксении Петербургской.
Новый храм освящен в честь Собора Московских святых, которому установлено празднование в воскресенье перед 8 сентября — днем Сретения Владимирской Божией Матери.
В ночь на 12 июля 2022 года, на 62-м году жизни архимандрит Сергий (Рыбко) отошел ко Господу.
14 июля 2022 года, в четверг 5-й седмицы по Пятидесятнице, в храме преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве состоялось отпевание архимандрита Сергия (Рыбко). Перед заупокойным чином была отслужена Божественная литургия, которую возглавил управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами архиепископ Егорьевский Матфей. Похоронен отец Сергей Рыбко на Лазоревском кладбище рядом с храмом Сошествия Святого Духа на апостолов.
В сентябре 2022 г. по Указу Святейшего Патриарха и Всея Руси Кирилла настоятелем храма назначен иерей Павел Симонов.
Ныне в храме проводится ежедневное богослужение:
в 17.00 вечерня и утреня; в 9.00-Литургия.
23 февраля 2020 года, в Неделю мясопустную, о Страшном Суде, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Собора Московских святых в Бибиреве г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме. Были освящены три престола: главный — в честь Собора Московских святых; правый — в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»; левый — в честь святителя Николая Чудотворца. В дар храму Святейший Владыка передал вышитую плащаницу. «Пусть Господь хранит вас всех, укрепляет в жизни духовной, дает физические силы и помогает восходить от силы к силе, приуготовляя себя к встрече Светлого Христова Воскресения. Аминь», — добавил Предстоятель Русской Церкви. Затем Святейший Патриарх огласил указ, которым игумен Сергий (Рыбко) во внимание к трудам по строительству храма Собора Московских святых в Бибиреве г. Москвы был удостоен сана архимандрита.
Храм Собора Московских святых построен на территории храма преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве г. Москвы.
Строительство храма Собора Московских святых началось в 2003 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II на средства прихода храма Святого Духа сошествия на Лазаревском кладбище г. Москвы, который являлся основным инвестором в период строительства. Все строительство и благоукрашение храма было осуществлено силами двух приходов, без привлечения спонсорских средств.
Так как малый храм прп. Сергия Радонежского, являющийся памятником архитектуры, уже не мог вместить всех прихожан, в целях обеспечения возможности служить Божественную литургию (пока новый храм не будет полностью построен) было решено выстроить сначала один придел в цоколе строящегося храма и полностью обустроить его для совершения богослужений.
На Рождество Христово 2005 года была совершена первая Литургия в цокольном приделе, посвященном равноапостольному Николаю Японскому. В 2007 году был освящен приставной престол в честь блаженной Ксении Петербургской.
Весной 2009 года была отслужена первая Литургия в верхнем храме — в приделе в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Первая Литургия на главном престоле в честь Собора Московских святых была совершена на Пасху 2012 года.
В 2015 году храм Собора Московских святых был введен в эксплуатацию. Храм Собора Московских святых — одноэтажный с цокольным этажом, пристроенной колокольней высотой более 45 метров и симметричной ей звонницей, с пристройкой главного западного входа и встроенными пятью апсидами. Здание храма четырехстолпное, диаметр центрального барабана, стоящего на четырех столбах, — 12 метров, высота центрального купола с крестом — 39 метров.
Храм имеет 6 алтарей: пять расположены на первом этаже — главный посвящен Собору Московских святых, два крайних придела устроены в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и святителя Николая Мирликийского, два малых — в честь Новомучеников Бутовских и преподобной Евфросинии Московской. Один, посвященный равноапостольному Николаю Японскому, расположен в цокольной части храма. Кроме того, в храме имеется приставной престол с антиминсом в честь блаженной Ксении Петербургской.
Новый храм освящен в честь Собора Московских святых, которому установлено празднование в воскресенье перед 8 сентября — днем Сретения Владимирской Божией Матери.
В ночь на 12 июля 2022 года, на 62-м году жизни архимандрит Сергий (Рыбко) отошел ко Господу.
14 июля 2022 года, в четверг 5-й седмицы по Пятидесятнице, в храме преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве состоялось отпевание архимандрита Сергия (Рыбко). Перед заупокойным чином была отслужена Божественная литургия, которую возглавил управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами архиепископ Егорьевский Матфей. Похоронен отец Сергей Рыбко на Лазоревском кладбище рядом с храмом Сошествия Святого Духа на апостолов.
В сентябре 2022 г. по Указу Святейшего Патриарха и Всея Руси Кирилла настоятелем храма назначен иерей Павел Симонов.
Ныне в храме проводится ежедневное богослужение:
в 17.00 вечерня и утреня; в 9.00-Литургия.